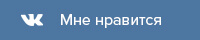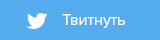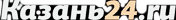«Нам даром не нужна ГЭС, мы просто хотим спокойно жить». Казанский режиссёр – о съёмках фильма про затопление деревень в России
Общество 01:18, 20.12.2016
В начале декабря фильм казанского режиссёра Дмитрия Тарханова, выпускника Факультета журналистики и социологии КГУ им.В.И.Ульянова-Ленина, показали в конкурсной программе фестиваля «Артдокфест» – самого, пожалуй, известного фестиваля документального кино в нашей стране. Это был премьерный показ и очень важный для молодого режиссёра, работающего ныне в Москве. Портал "Казань24" публикует интервью, которое у автора картины взяла нынешняя учащаяся факультета (а вернее, Института массовых коммуникаций и социальных наук КФУ) Полина Трифонова.

«Против течения» – это история о масштабных затоплениях территорий на крупных реках с целью большого государственного строительства и о людях, пострадавших от этого. Действие фильма разворачивается в двух географических и исторических плоскостях. С одной стороны, мы видим жителей татарстанских деревень, малые родины которых залило водой 60 лет назад при строительстве Куйбышевского водохранилища, с другой – нашему вниманию представляются сельчане, которых выселяют из родных мест прямо сейчас (во время съемок фильма), потому что на месте их домов отныне должна быть лазурь Богучанского водохранилища.
- Дмитрий, почему фильм ваш фильм называется «Против течения»?
- В нашей стране, к сожалению, против течения бывает часто. Против течения равнинных рек. Против спокойного течения жизни в российской глубинке. Против естественных человеческих прав, прописанных в Конституции. Все складывается таким образом, что люди в итоге тоже вынуждены идти против течения, отстаивать свои права в судах или замыкать это несогласие в себе. Все противоестественно.
- Вы рассказывали о том, что этот фильм навеян детскими воспоминаниями. Расскажите о них подробнее. Почему, спустя столько лет, вас не оставила история затопления жилых территорий?
- Это не очень веселая история. Однажды ребенок оказался на размытом кладбище среди человеческих черепов и… начал их считать. И пальцев на руках для счета не хватило… Такие эпизоды, думаю, надолго запоминаются, как и любые стрессы в детском возрасте, оставляют свои отпечатки. В моем случае этот отпечаток наложился на некоторые профессиональные навыки и появилось документальное кино.

- В вашем понимании, случившееся – это катастрофа?
- В тот момент, когда я считал эти черепа на берегу и пытался понять, как такое могло случиться, конечно, это было для меня катастрофой, своеобразной точкой. Потом я начал работать над фильмом, собирать какие-то материалы, интересоваться источниками, и этот ужас опять предстал перед моими глазами. Хотя скорее мой фильм о страшной реальности, чем о гибели и тотальном провале. Но если зритель примет её как величайшую трагедию, это будет означать, что моя работа была ненапрасной.
- А как воспринимают случившееся сами жители затопленных территорий?
- В СССР многие гидроэлектростанции были построены в течение 10-20 лет после окончания войны. И для поколения, пережившего войну, переселение в другое место жительства, конечно, глобальной трагедией не выглядело. Тем более, если Сталин сказал, что так надо для государства. Кто поспорит? С другой стороны, есть много свидетельств того, что переселение часто оказывалось глубокой личной драмой. То есть воевали за Родину, выжили, а потом этой Родины лишились, и не очень-то понятно ради чего.
Иногда люди возвращались вопреки всему на острова, оставшиеся от родных мест после открытия водохранилищ, жили там в землянках, пытались наладить хозяйство, держать скотину – это история из Татарстана, между прочим, из затопленного города Спасска. Их очень много – таких историй, очень. И одна страшнее другой. Ульяновский историк, профессор Евгений Бурдин как раз собирает это культурное наследие зон затопления, восстанавливает по рассказам старожилов картины былой жизни. И у него, к сожалению, таких «картинок» про исковерканные судьбы – вагон и маленькая тележка.

- А что говорят сельчане, на месте домов которых построили Богучанскую ГЭС?
- Будучи на съемках в Иркутской области, в Кеуле, я слышал от кеульчан примерно одно и то же: «Нам даром не нужна эта ГЭС, мы просто хотим спокойно здесь жить». Катастрофа это или нет? Когда человек, которому дали квартиру в Кодинске, только и слышит, что еще кто-то умер из земляков… в этой новой городской среде. И он решает вернуться в Кеуль и живет в вагончике на берегу реки. Или когда человек, у которого дом, семья, хозяйство, скотина, спецтехника, лишен возможности получить равноценный участок, обустроиться там, и поэтому вынужден забить скотину, оставить спецтехнику и начинать почти с нуля. Это только то, что я увидел за неделю.
Для кого-то из кеульчан это переселение стало уже третьим в жизни... Третьим! Да-да! То одна ГЭС, то другая, то ошибки в расчетах… Если ценность человеческой жизни близится к нулю – это, конечно, катастрофа.
- Воплощая свою задумку в жизнь, вы одновременно выступили в роли оператора и режиссера. Почему? Не хотели доверить кому-то еще?- Да все проще. Чтобы кому-то доверить работу, нужны деньги для оплаты этой работы. Или уверенность, что это будет лучшая документальная история всех времен и народов и она принесет эти самые деньги. У меня не было ни первого, ни второго.
Кстати, сценария тоже не было. Я решил, что он ограничивает реальность, и поэтому решил его не писать. Хотя в журналистике он может пригодиться.

- Вы довольны результатом? Все ли задуманное удалось показать на экране?
- Я не снял, как плавают гробы. Где-то они якобы периодически всплывают, а у меня в фильме не всплывают. Говорю об этом совершенно серьезно, эти кадры сняли бы многие возможные вопросы о масштабах бедствия.
- В ваших "закромах" уже есть задумки нового фильма? Какие ещё темы Вас волнуют?
- Во время работы над фильмом я намеренно сузил круг своих интересов, чтобы меня не захватили другие темы. И сейчас этот образ мышления является в некоторой степени проблемой – нужно заново учиться рефлексировать, интересоваться тем, что происходит вокруг.
Мне бы хотелось сделать фильм о молчаливой страсти. Вот вам синопсис, представьте: астроном, пусть Казанского Университета, он убежден, что на планете N есть жизнь, но его теория бездоказательна. Все его тетради исписаны формулами, уравнениями, он прорезает карандашом бумагу, стены в квартире тоже исписаны, он одержим этой идеей и молча ищет ответы на вопросы. Как в кино. Сигарета за сигаретой, без сна, от телескопа к бумаге. Да, иногда он ест и занимается заработком. Ему никто не верит и не поверит даже когда он найдет свою формулу, потому что сказки про жизнь на других планетах мы слышим каждый день. Интересно, что он будет делать дальше?
- Как в вашей профессиональной деятельности помогло журналистское образование? Чему научил Университет?
- Университет дал мне представление о многогранности нашего мира, о его сложных причинно-следственных связях, в которых журналист должен разбираться. На журфаке я учился принимать решения, учился думать, правильно формулировать и выражать свои мысли. Писать, снимать, общаться с людьми. Сейчас учусь все тому же, но база этих знаний была заложена в студенчестве, у меня были классные учителя.

- От журналистики до съемок фильма… сколько шагов?
- Сколько шагов до фильма? Наверное, смотря в какую сторону идти и какой фильм снимать. Если цели и задачи журналистские, методы сбора и подачи информации журналистские, а также есть определенные журналистские каналы трансляции, то на выходе может быть получится «спецреп», как сейчас модно все подряд называть – большой материал, который вполне себе потянет на фильм. Но нужно понимать, что границы здесь условны.
Или можно снимать о себе, а можно для зрителя. Мне на факультете долго рассказывали, что журналистика должна выполнять ряд функций – просветительскую, воспитательную, развлекательную… ещё несколько. И что у любого посыла обязательны тактическая цель – убедить кого-то, и стратегическая – сформировать чье-то мнение. И еще много разных правил, нужных, которые нельзя забывать, но иногда нужно отпустить. Нужно отступиться от них, чтобы выйти за границы привычной журналистики, за границы этики и логики – и попробовать объять необъятное – мотивы человеческих поступков, почувствовать их и снять во всех красках. Это и есть авторское документальное кино. В некотором смысле о себе.
Подготовила Полина Трифонова,
специально для сайта Кафедры теории и практики электронных СМИ ИМКиСН КФУ и портала "Казань24"
Фото: кадры из фильма "Против течения", личный архив Дмитрия Тарханова
Новости по теме

Популярное
- В Казани трамваи стали реже сходить с путей
- В Татарстане завершили реконструкцию участка трассы Набережные Челны — Сарманово
- Татарстан получит почти 800 млн. рублей на лечение коронавирусных больных
- 30% татарстанцев планируют перейти на цифровую трудовую книжку
- Строительство дороги через казанские Дербышки отложат до 2025 года
- Мама погибшего в Сочи мальчика из РТ поблагодарила всех неравнодушных за поддержку
Новости Казани
Авто
- 222 человека погибли в ДТП в Татарстане с начала года
- Казань заняла третье место среди городов-миллионников России по доступности бензина
- Казань заняла 4-е место среди городов-миллионников России по дешевизне такси
- В Татарстане за неделю почти на рубль подорожал бензин АИ-98
- В Казани из-за дождя перестали работать светофоры на четырех перекрестках
Архив
- Как получить больше денег в онлайн-казино Вулкан
- До конца года на улицы Казани выйдут 108 новых городских автобусов «МАЗ-203»
- За осень в Татарстане высадят 1,7 млн деревьев
- «Как Калашников в руках солдата, камера – это оружие режиссёра»
- С октября из Казани перестанут ездить электрички до Свияжска и Вятских Полян
Блоги и соцсети
- В Татарстане стартовал масштабный фотоконкурс #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга
- 11 смартфонов и 2 машины разыграют в день выборов Раиса Татарстана
- Автомобиль Sollers ST8 и 11 смартфонов разыграют в день выборов Раиса Татарстана
- Видео салюта в Казани выложили в соцсетях
- Коммуникационное агентство К9 получило 4 награды на премии Silver Mercury в ПФО
ЖКХ
- В Казани с понедельника стартует отопительный сезон
- В Татарстане осталось провести дорожные работы в 13 дворах
- Программа «Наш двор» на этот год в республике выполнена на 95%
- В Татарстане на 91% готовы дорожные работы по программе «Наш двор»
- В 26 районах Татарстана наблюдаются задержки в сроках выполнения капремонта
Криминал
- С начала года мошенники украли у татарстанцев более 3 млрд рублей
- Бастрыкин взял на контроль дело об осквернении Вечного огня в Казани
- В Татарстане задержан директор научного института за мошенничество на 11,5 млн рублей
- Пенсионерка из Татарстана стала жертвой мошенников и потеряла 41 млн рублей
- В Татарстане задержаны выходцы из Хабаровска, планировавшие теракт
Кубок Конфедераций
- «Люди в России постоянно ходят с серьёзными лицами». Фотограф из Мексики – о том, почему боялся ехать на Кубок Конфедераций в Россию
- Во время Кубка Конфедераций болельщики в среднем потратили в Казани 30 тысяч рублей
- «Сердце футбола – это не миллионеры на поле, а болельщики на трибунах». Итальянский журналист – о закулисье Кубка Конфедераций
- Реформа «последней мили». В Казани подвели итоги Кубка конфедераций и рассказали, что изменят к Чемпионату мира
- «Последнюю милю» у Казань Арены в преддверии Чемпионата мира могут трансформировать
Медицина
- Казанский генетик Ильдус Ахметов вошел в число самых цитируемых ученых мира
- В Казани зарегистрировано свыше 5 тысяч обращений по поводу укусов клещей
- В Татарстане построены все 47 ФАПов, запланированных в этом году
- В Татарстане за десять лет выросла на 15% смертность трудоспособного населения
- 57 химических отравлений отмечено в Татарстане за неделю
Образование и наука
- Власти Татарстана установили размеры стипендий для студентов до 2028 года
- Педагоги Татарстана смогут получить по миллиону рублей на покупку жилья
- Минниханов поздравил татарстанцев с 1 сентября
- Минниханов в четыре раза увеличил надбавки молодым учителям Татарстана
- Татарстан переводит школьные чаты в отечественный мессенджер MAX с сентября
Общество
- Первую очередь реконструкции казанского ЦУМа завершат в декабре
- В Казани на стройке и в кафе задержали 13 нелегальных мигрантов
- Казанцев приглашают к участию в благотворительной акции «Лапа дружбы»
- В Казани из-за угрозы беспилотных атак школьников эвакуировали в укрытия
- В Татарстане растёт спрос на мухоморы
Полезное
Политика
Происшествия
- Сотрудники МЧС Татарстана потушили восемь пожаров за последние сутки
- Тела всех утонувших пассажиров катера на Волге под Казанью до сих пор не могут найти
- 4 авиарейса на линии Казань-Сочи задержаны из-за угрозы БПЛА
- Три человека погибли в ДТП в Заинском районе Татарстана
- В трех районах Татарстана ввели карантин по бешенству
Промышленность, технологии, связь
- В Казани открылся международный форум Kazan Digital Week – 2025
- В Казани за месяц в три раза выросло число подключений к проводному интернету
- В Казани стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум
- В Татарстане обновили карту бесплатных Wi-Fi точек — 1800 зон доступа по всей республике
- В Татарстане число предприятий, нуждающихся в сотрудниках, выросло вдвое
Религия
- Открылся для посещения отреставрированный храм-памятник павшим воинам на Казанке
- Патриарх Кирилл прибыл в Казань на торжества в честь Казанской иконы Божией Матери
- Минниханов оценил восстановление Казанского Богородицкого монастыря
- Минниханов впервые встретил Курбан-байрам в сельской мечети
- Минниханов поздравил православных с праздником Пасхи
Спорт
- Строительство современного Центра стрельбы из лука стартовало в Казани
- 16 тысяч участников вышли на старт «Кросса нации — 2025» в Казани
- В Казани открылся новый Центр фехтования
- Казань примет чемпионат России по легкой атлетике
- В Казани на строительство школы фигурного катания имени Алины Загитовой выделят 1,29 млрд рублей
Строительство
- В Татарстане сдано 88% годового плана по вводу жилья
- В Татарстане введено 87% годового плана по жилью
- В Татарстане годовой план по вводу жилья выполнен на 81%
- В Казани планируется строительство кольцевой железнодорожной ветки протяженностью 48 км
- На КАЗ имени Горбунова построят новый корпус за 1,6 млрд рублей
Транспорт
- В метро, трамваях и троллейбусах Казани введут оплату проезда по QR-коду
- Запуск второй линии казанского метро отложен на 2030 год
- В сентябре на маршруте Казань — Москва появятся дополнительные поезда
- Казань рассматривает возможность запуска авиарейсов в Северную Корею
- Татарстан первым в России внедрил оплату проезда в электричках через Telegram-бота и геолокацию
Экология, природа и окружающая среда
Экономика и бизнес
- Минниханов участвует в юбилейном Восточном экономическом форуме
- В Казани стартует российско-китайский форум "Ростки"
- В Татарстане бензин АИ-98 за год подорожал почти на 19%
- Минниханов подвел итоги исполнения бюджета Татарстана за первое полугодие
- Татарстан — бесспорный лидер промышленного развития России
Новости партнеров